
В конце 2014 года специалисты Центра лечебной педагогики «Особое детство» организовали экспериментальный проект – музыкальный коллектив, в котором вместе играют джазовую музыку сотрудники и выпускники центра, при этом общаясь, взаимодействуя, импровизируя, постоянно учась друг у друга. В первый год существования проекта много внимания уделялось анализу его целей и того, как построить работу группы для их достижения. Главным открытием стала идея: в этом проекте интеграция выпускников ЦЛП, которым в то время было по 15–16 лет, должна быть не конечной целью, а только средством. Цель же, сформулированная организаторами проекта, – быть музыкальной группой в развитии, для чего необходимо с помощью психолого-педагогических средств создавать специальные условия для особых участников коллектива.
Эта простая идея стала основой интегративной модели. Она определила этику взаимодействия внутри группы, между педагогами, а также с социумом. Спустя год, в ноябре 2015, джаз-бэнд ЦЛП дал первый концерт в посольстве Франции. До лета 2016 года группа выступила еще семь раз! На последних двух концертах того сезона музыканты выступали уже под названием Moonberry Jam. Его придумали во время мозгового штурма, в котором приняли участие все музыканты группы (он продолжался более шести часов).

В декабре 2016 года Moonberry Jam опубликовали первый клип на своем YouTube-канале. Сейчас там 245 подписчиков, более 20 музыкальных видео, три трансляции, четыре клипа, более 14 000 просмотров. Последний клип снимался и записывался в студии Moonberry Jam в новом здании ЦЛП в Коньково. Ее музыканты обустроили осенью 2018 года: сделали там простой ремонт и звукоизоляцию для работы с музыкой.
В феврале 2020 года Moonberry Jam впервые выступили в клубе Алексея Козлова – одном из лучших мировых джазовых клубов. Группа дала там уже три концерта.
В 2020 году джаз-бэнд покинула солистка. Работа ансамбля была полностью перестроена. Коллектив Moonberry Jam начал функционировать как аккомпанирующий джаз-бэнд для подготовки совместных программ с приглашенными солистами – профессиональными джазовыми музыкантами. В 2020–2021 годах Moonberry Jam выступали с Яной Смирновой, Яной Успенской, Николаем Куликовым и Петром Востоковым. Так начался новый этап в жизни группы, который успешно продолжается до сих пор. Сейчас в джаз-бэнде представлены ударные, перкуссия, бас, клавиши, духовые и струнные инструменты.
Об опыте реализации интегративной модели
О том, как собственный четко сформулированный подход к взаимодействию с особыми людьми и неизменное следование ему помогли сформировать успешную интегративную модель творческого коллектива и что нужно, чтобы распространить этот опыт на других, мы поговорили с Александром Водинским – ведущим специалистом, психологом Центра лечебной педагогики «Особое детство», руководителем джаз-бэнда Moonberry Jam.
– Александр, в своих интервью вы неоднократно подчеркивали, что ваша группа не является представителем так называемого особого искусства и арт-терапией вы тоже не занимаетесь, а просто играете джаз и стараетесь делать это хорошо. Тогда получается, что на репетициях и концертах сотрудники ЦЛП, которые входят в вашу группу, по сути, такие же творческие единицы, как и особые музыканты? Но, с другой стороны, в обычной жизни для ребят они педагоги и наставники. Происходит ли какая-то смена ролей во время творческого процесса, влияет ли это на характер взаимоотношений в группе?
– Во-первых, мы, конечно, не совсем на равных. Даже не с точки зрения «педагоги – не педагоги», а с точки зрения наших ролей в ансамбле. Я руководитель ансамбля, поэтому я предъявляю какие-то требования: могу остановить репетицию, сделать замечание по поводу игры, причем по отношению к любому участнику ансамбля. К тому же среди членов нашего коллектива есть люди, которые выполняют роль наставников для музыкантов с особенностями в развитии. Мы с ними примерно одного возраста, но тем не менее это очень значимый ресурс. У нас же есть еще система индивидуальных репетиций, на которых и устанавливаются эти отношения. Индивидуальные репетиции – это очень важная вещь. На них мы можем понять, какие препятствия и трудности есть у того или иного участника, почему что-то не получается. И тут мы применяем свои знания и навыки работы с особыми людьми и пытаемся найти решение.
Например, у нас есть педагог, который играет на одном инструменте, а еще увлекается другим (на котором играет выпускник ЦЛП). Он занимается развитием ритма с участниками, которым это нужно. Фактически он в каком-то смысле отвечает за всё это направление. Соответственно, по ходу репетиций, если кто-то из участников теряется или не может что-то вспомнить, он помогает им. У нас так продумано, что они даже физически располагаются рядом. Это и по музыке правильно, но в данном случае нам это еще и помогает оказывать необходимую поддержку на репетиции или на концерте. Или есть у нас руководитель духовой секцией. Для этой секции существуют отдельные дополнительные репетиции.
Нам не нужно поддерживать какой-то классический образ педагога, зачем? Авторитет у нас и так есть за счет других вещей, необходимых для развития музыкального коллектива. Когда к нам на репетицию приходят профессиональные музыканты, они говорят, что у нас всё устроено очень похоже на то, как это бывает в профессиональных ансамблях. Если говорить про саму модель наших взаимоотношений, то тут уместна метафора таких как бы старших товарищей в деле. У кого-то в группе больше опыта, у кого-то – меньше, и более опытные помогают и поддерживают.
– В чем заключается специфика репетиций вашего джаз-бэнда?
– На репетициях иногда приходится преодолевать препятствия, связанные с особенностями музыкантов. При этом наши решения каждый раз бывают очень индивидуальными. Например, человек не готов к репетиции в эмоционально-мотивационном плане. Одному мы в такой ситуации скажем: «Пойди отдохни сейчас», а другого, наоборот, будем побуждать собраться, сосредоточиться.
Что касается индивидуальных репетиций (а у нас есть и такие), то они еще бывают ориентированы на коммуникацию: их участники обсуждают репертуар, прошедшие выступления, слушают музыку – то есть это общение, которое строится вокруг нашей жизни. Оно не похоже на дефектологическое занятие или реабилитацию.
– Мне очень импонирует ваша идеологическая концепция того, что интеграция и инклюзия – это только средство, и лишь вокруг общей содержательной цели они должны выстраиваться. Насколько ее можно реплицировать, воплотить в других условиях, с другими участниками, с другой личностью руководителя, в другой творческой сфере? Или это все-таки очень индивидуальный проект?
– Есть разные мнения на этот счет. Мое мнение такое, что личный вклад очень велик. И я имею в виду не конкретно свою личность. У нас собралась команда, объединенная одной мотивацией – жить музыкальной жизнью. Для всех педагогов это некий вызов, новый и интересный, и для них это развивающая ситуация – так же, как и для участников с особенностями в развитии. Это первое важное условие для успешной реализации нашей модели взаимодействия: все вовлечены и хотят развиваться в той творческой области, которая не является для них профессиональной.
Второй значимый факт: коллеги, с которыми мы начинали наш проект, имеют большой опыт взаимодействия с особыми детьми и взрослыми, и, соответственно, у них есть общие ценности и определенный фокус внимания. Они способны получать удовольствие от взаимодействия с людьми, имеющими особенности развития, они настроены на то, чтобы создавать для них зону ближайшего развития. Кроме того, они способны успешно устанавливать контакт с такими людьми, быть внимательными к их эмоциональным проявлениям. Это важно, потому что если просто собрать людей, которые хотят заниматься каким-то творческим делом, и они это дело любят, но у них нет ни необходимых профессиональных ресурсов, ни возможности получать удовольствие и радоваться отдельным моментам взаимодействия с особыми людьми, то это, наверное, не сработает.
Я не думаю, что тут есть какая-то технология, которую мы могли бы расписать по пунктам и создать методичку. Но, безусловно, мы можем говорить о неких важных смысловых установках при построении подобной интегративной модели творческого коллектива помимо тех двух, которые я уже упомянул. В частности, в начале нашей деятельности мы довольно много времени и внимания уделяли созданию условий для установления отношений и общения.
Всем известен коммуникативный формат, который используют педагоги в дошкольных образовательных учреждениях или в детских лагерях: так называемые свечки, когда дети и взрослые собираются в круг, и тот, у кого в руках свечка, может рассказать остальным о чем-то, что считает важным. Мы максимально адаптировали этот формат под свои условия и потребности. Ведь если в обычном ансамбле музыканты после репетиции могут сесть в курилке или за чашкой чая и свободно пообщаться друг с другом, то для людей с особенностями, которым присуща определенная замкнутость, это так не работает.

На нашей репетиционной базе есть небольшая комнатка, где имеются стол, чайник, микроволновка. Можно сесть и перекусить, ведь в основном мы все приезжаем после работы или после учебы. И там есть возможность пообщаться, но часто никакого общения может и не происходить. Поэтому мы сразу ввели такой дополнительный формат, который назвали «коммуникативный час». Мы стараемся проводить его раз в неделю, хотя и не всегда так бывает, это зависит от интенсивности репетиций. Это общение, организованное специальным образом. Прежде всего – для того, чтобы любой человек, который испытывает такую потребность, мог что-то сказать, безопасно и безоценочно выразить себя. У нас есть довольно четкие правила и рамки, которые помогают в этом. Например, говорит только тот, у кого свечка, а потом ему могут задать вопросы. Соответственно, к этому можно подготовиться. Люди, которые не используют звучащую речь, могут сделать это на индивидуальных репетициях. У них есть коммуникативные книги, карточки, кто-то использует жесты, чтобы рассказать о чем-то. А дальше мы предоставляем им такую возможность. Мы видим, что этот формат очень важен для участников, у которых есть особенности, и мы сохранили его.
Изначально мы уделяли достаточно много внимания выстраиванию общения и, если можно так сказать, интегративного сопровождения. Создали безопасную среду, которая, может быть, не всегда бывает комфортной, потому что прежде всего она развивающая. Обычно бывает так: я как руководитель добавляю стресса, а индивидуальный сопровождающий поддерживает и помогает справиться.
Еще одна наша установка – не выносить то, что мы знаем об особенностях человека, его диагнозе, за пределы нашего профессионального общения. У нас есть педсовет, где обсуждается тот блок работы, которую мы осуществляем как социальные педагоги и психологи. Эта работа необходима для создания тех самых особых условий для наших музыкантов из числа выпускников ЦЛП. Каждую неделю после репетиций мы встречаемся и обсуждаем организационные вопросы и различные сложные ситуации, например, если у кого-то возникают трудности с поведением, ухудшается эмоциональное состояние, что-то не получается. Мы думаем над этим в формате педсовета, и потом эта информация не уходит дальше, нам важно удерживать ее в этих рамках, а на репетициях и выступлениях оставаться в позиции старших товарищей в музыке. К сожалению, в организациях, которые занимаются с особыми детьми, педагоги иногда могут из самых хороших побуждений обсуждать проблемы своих подопечных в их присутствии. Это очень понятно, но я всегда считал, что это неправильно, и мы всегда стараемся удерживать эту рамку.
– Как люди попадают в ваш коллектив? Что нужно, чтобы стать участником группы?
– Когда мы только придумали этот проект, у меня на примете были некоторые выпускники ЦЛП, я представлял себе конкретных музыкальных персонажей, которых можно было бы включить в группу. Затем мы открылись, начали репетировать небольшим составом, а коллеги из Центра лечебной педагогики стали рекомендовать нам еще других выпускников. Мы созванивались с семьей, коротко рассказывали о проекте и спрашивали, насколько он интересен человеку, а потом приглашали к себе познакомиться. Смотрели, как человек реагирует, как он может включиться в ту или иную часть репетиции, насколько он может услышать и понять какую-то задачу, которую я перед ним ставлю. Обязательно наблюдаем, как человек общается – приглашаем в тот день, когда у нас есть коммуникативный час, чтобы мы посмотрели на него и в свободной обстановке, и в ситуации организованного общения. Потом мы обсуждаем и принимаем решение исходя из того, что мы увидели. Бывает, родители приводят своих уже взрослых особых детей с ожиданием, что здесь они получат некую музыкальную терапию. Но у нас ведь другое: человеку надо иметь внутреннее желание встроиться в исполнение музыкального произведения, и дальше мы ему в этом помогаем, исходя из его возможностей и ограничений. Если мы такое желание видим, то, как правило, предлагаем какое-то время походить на наши репетиции и посмотреть, что будет получаться. Сейчас уже часто семьи сами находят нас и звонят. Алгоритм взаимодействия с ними примерно такой же: приглашаем, знакомимся, показываем, как у нас всё устроено, потом родитель обязательно уходит, и мы остаемся один на один с нашим гостем. Конечно, ситуации могут отличаться. Если к нам придет какой-то духовик, который владеет инструментом и готов разучивать конкретные партии, то, может быть, путь вхождения в коллектив будет короче.
На самом деле, когда к нам приходят педагоги, которым наш ансамбль интересен и как музыкальная группа, и с точки зрения интегративной работы, то это тоже происходит похожим образом. Мы их приглашаем, смотрим, как они общаются, взаимодействуют, играют, как могут выполнять музыкальные задачи, которые перед ними ставятся. Разница в том, что люди, приходящие на такую позицию, должны ходить на педсовет.
– Александр, давайте попробуем обобщить: какими ресурсами должен обладать участник интегративного творческого коллектива? Вероятно, те, кто приходит на позицию педагогов, должны иметь профильное образование и опыт?
– Я бы сказал, что это вопрос неоднозначный. Иногда и опытный педагог в наш формат взаимодействия не вписывается, и, наоборот, был случай, когда на нашу репетицию пришел творческий человек, не имеющий никакого отношения к педагогике и к людям с особенностями, и тут же нашел со всеми общий язык. Поэтому, как я уже говорил, чтобы стать частью нашего ансамбля, нужно иметь желание развиваться как музыкант, то есть обладать музыкальным слухом, чувством ритма и артистизмом. А также нужны коммуникативные качества. Если мы говорим про педагога, то это способность общаться с особыми людьми и получать удовольствие от этого, а также умение устанавливать эмоциональную связь. И еще кое-что очень важно. Мы видели много людей, пробовавших прийти к нам и на позицию педагогов, и на позицию особых участников. Но они были не способны работать в ансамбле, взаимодействовать с другими в музыке. Оказывается, так бывает даже с теми, кто хорошо владеет музыкальными инструментами. И это тоже приходится учитывать.
– А теперь вопрос о характере вашего взаимодействия с семьями особых музыкантов. Как оно происходит?
– Наше взаимодействие требует от семьи включенности: члены семьи привозят особого музыканта на репетиции или на концерты, контролируют его расписание, находятся с нами на связи по поводу каких-то изменений его эмоционального и физического состояния, помогают контролировать внешний вид перед выступлениями и т. п. Если мы заметим какие-то важные вещи, например, какому-то человеку, по нашему мнению, не хватает двигательной нагрузки или необходима консультация определенного специалиста, мы скажем об этом его близким, но сами заниматься этим не сможем. Дальше это уже ответственность родителей. Мы изначально позиционировали ансамбль не как «коррекционную» группу, участникам которой оказывается комплексная психолого-педагогическая помощь, как в детских группах ЦЛП. Наши особые музыканты выросли в таких группах, но сейчас повзрослели, и нам надо было перезагрузить формат, чтобы они почувствовали себя взрослыми и, насколько это возможно, самостоятельными. Мы считаем, что навыки самостоятельности – это очень важно.
Один-два раза в год мы собираемся вместе с семьями, чтобы обсудить изменения, которые происходят в ансамбле, и планы на будущее. Возможности взаимодействовать более тесно у нас нет, потому что ресурсов не хватает, ведь перед нами стоят довольно сложные задачи по нашей непосредственной музыкальной деятельности. Хотя, конечно, если бы у нас имелись дополнительные ресурсы для работы с семьей, то мы обязательно включили бы в проект это направление, делая упор на то, чтобы мотивировать родителей и помогать им развивать самостоятельность в людях с особенностями. Самостоятельность для нас – наивысшая ценность.

– Что самое важное для руководителя творческого коллектива, чтобы он смог работать в рамках выработанной вами интегративной модели?
– Руководитель – человек, который развивает проект, а значит, ему больше всех это надо. У меня был огромный внутренний стимул разрушить традиционно сложившееся представление о творческом коллективе с участием особых людей как о какой-то кунсткамере или как о реабилитационном центре для инвалидов. Я готов был ломать любые стены, чтобы нас так не воспринимали и о нас так не говорили. Это очень важная точка напряжения, таящая немало опасностей, потому что тут легко попасть если не в одну, то в другую ловушку: доказывать всем, что мы не инвалиды –тоже не та позиция, которая соответствует нашим идеям интеграции.
Но в то же время это и точка роста, которая стимулирует развитие. Выходит, чтобы развиваться, творческому коллективу и его руководителю надо очень сильно стремиться к этой точке. Ну и желание самому утвердиться в выбранном творческом направлении тоже очень много значит. То есть у руководителя с проектом должны быть связаны какие-то напряженные точки личностного роста, личная вовлеченность, и тогда он сможет двигать эту историю.
– Как я понимаю, вы выбрали для своего коллектива джаз, поскольку это ваше личное большое увлечение. Насколько джаз подходит для особых музыкантов? Как вы думаете, могли бы они реализоваться в других музыкальных направлениях?
– Действительно, джаз – это мой выбор, и у нас в ансамбле практически нет людей, которые любят джаз так же сильно, как я. Конечно, в выборе джазового направления есть свои ограничения: джазовая музыка построена на импровизации, а люди, у которых есть особенности, довольно ригидны, им трудно импровизировать. Но, с другой стороны, эта сложная задача выполняет важную роль на пути продвижения и развития.
Преимущество джаза заключается в том, что в него можно включить очень много разных инструментов, в том числе какие-то необычные. Еще одна хорошая черта – в джазе сильна ритмическая сторона, а она пробуждает в исполнителе энергию, мотивирует его. Люди, которые предрасположены к музыке, улавливают свинговый драйв, и это начинает им нравиться. К тому же нам удалось войти в довольно узкий круг московской джазовой тусовки, и этот факт тоже мотивирует, способствует ощущению успешности, повышению самооценки. Не любой коллектив возьмут в качестве аккомпаниаторов для джазового солиста. Это все-таки специфическая музыка со своей традицией, и мы заняли в ней свою нишу. Помимо всего прочего, это создает ценный опыт настоящей социализации для наших особых музыкантов. Мы видим, что участие в этом проекте действительно нормализует их жизнь, приносит им удовлетворение. Для них наши концерты очень значимы, они готовы работать и напрягаться ради этого.
Я думаю, что и в других музыкальных направлениях люди с особенностями в развитии вполне могли бы реализоваться. Мне кажется, воспитание в музыке во многом происходит именно за счет каких-то сознательных ограничений. Чтобы лучше разбираться и развить вкус в том или ином музыкальном направлении, нужно быть в этом материале, слушать эту музыку, играть ее.
– Александр, спасибо за интересную и полезную информацию. Надеюсь, что она пригодится нашим читателям. Понятно, что, как и в любом авторском начинании, в вашем проекте многое зависит от энтузиазма и личных качеств руководителя и участников, а также диктуется конкретными обстоятельствами. Конечно, такой коллектив, как ваш джаз-бэнд, не создается «по разнарядке» и не развивается по стандартному алгоритму. Однако нет сомнений, что ваш опыт будет ценен при построении интегративного взаимодействия с людьми с особенностями в развитии в разных сферах творческой и трудовой деятельности.




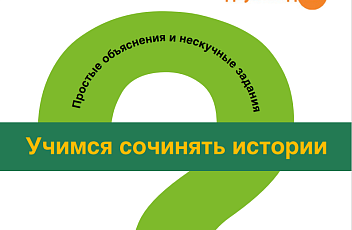
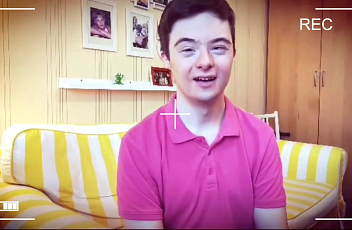


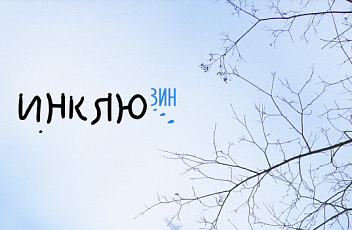
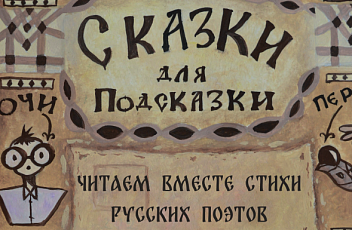
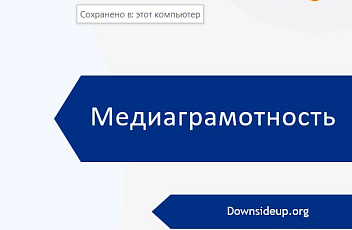
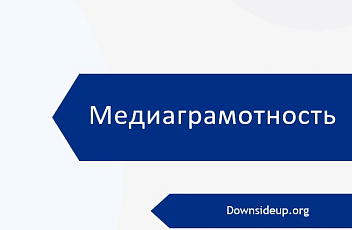

.jpeg)


